 Рекламное объявление
О рекламодателе
ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7
Рекламное объявление
О рекламодателе
ERID: F7NfYUJCUneRHUrosfN7
Рецензия на фильм «Гарпастум»
Германа трудно теперь назвать "младшим". Он снял во всех смыслах большое кино, что надо застолбить немедля. Потому что кому -- арбуз, кому -- свиной хрящик, кому -- "9 рота" (2005), кому -- "Гарпастум" (2005). Так же как греческий гарпастум дожил до сих пор под именем "футбола", 1914 год в фильме богат ассоциациями с сегодняшней действительностью. В принципе ими богата любая наша эпоха -- ни одну из эпох, включая татаро-монгольское иго, мы так и не пережили, не поняли, не разошлись, умиротворенные. Алексей Герман-мл. выбрал 1914 год, вероятно, потому что только к началу XX столетия вечно тонкий культурный слой в нашей стране впервые стал "слоем", сословием порядочных людей.

Трейлер
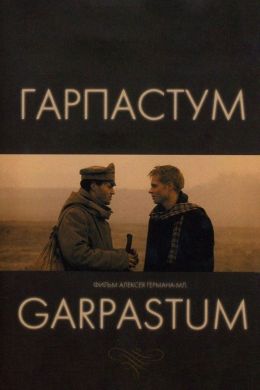
Германа трудно теперь назвать "младшим". Он снял во всех смыслах большое кино, что надо застолбить немедля. Потому что кому – арбуз, кому – свиной хрящик, кому – "9 рота" (2005), кому – "Гарпастум" (2005). Так же как греческий гарпастум дожил до сих пор под именем "футбола", 1914 год в фильме богат ассоциациями с сегодняшней действительностью. В принципе ими богата любая наша эпоха – ни одну из эпох, включая татаро-монгольское иго, мы так и не пережили, не поняли, не разошлись, умиротворенные. Алексей Герман-мл. выбрал 1914 год, вероятно, потому что только к началу XX столетия вечно тонкий культурный слой в нашей стране впервые стал "слоем", сословием порядочных людей.
Интеллигентность как норма жизни больше не была собственностью родовой аристократии, начала тихо распространяться вплоть до кухаркиных детей, обрела бытовой, профессиональный, художественный облик. Но и тогда она все же была еще слишком хрупкой, чтобы пережить войну. Если в иных странах Первая мировая привела лишь к культурным метаморфозам, нам войны оказалось достаточно, чтобы тонкий слой был сметен и раздавлен, а наверх хлынули и прорвались необъятные, столетиями копившиеся темные, низменные инстинкты, жестокость и подлость. И вот сто лет прошло, а страна по сей день является их полной собственностью, крайне низкий уровень личной культуры – нормой жизни, ставшей единственной, и, хотя фильм об этом прямо не говорит, такая историческая логика видна в нем невооруженным глазом.
На ее очевидном фоне Алексей Герман-мл. и занялся режиссированием, а именно уточнением характеристик самого культурного слоя. Чем точнее они в визуальном, ритмическом и психологическом смысле, тем больше шансов сделать из представлений режиссера как бы "кусок жизни", не зависящий ни от жанра, ни от сюжета, ни от персонажей, ни даже от режиссера лично. Во многом такая страсть к жизни воплотилась на экране. Два брата, брюнет и блондин, Николай и Андрей, ангел и падший ангел, могут практически все – в одиночку выиграть в футбол у англичан, соблазнить роковую женщину, заработать денег на постройку стадиона, выжить во фронтовых окопах. За несколько лет стойкого интереса к своему делу они проходят тоже через все – болезнь и смерть родных, присутствие скучающей богемы, вторжение темных личностей, бурный секс, убийство близких людей. Вопрос ясен: чем это кончится. Но фильм – вовсе не биографический, он сложен не из секса, убийств и футбольных игр, а из неявной связи мельчайших подробностей всего происходящего. Чтобы понять, куда в гости попали Андрей и Николай, нужно успеть в другой комнате на заднем плане разглядеть человека в костюме Пьеро, который, как известно, носил тогда Вертинский.
Безусловно, разглядывать фильм приятней, если публике что-то известно из Серебряного века. Тем не менее, он – не про ту культуру, что состоит из имен, названий, музеев и библиотек. Вокруг Андрея и Николая, ставших "альтер эго" режиссера – просто разные типы человеческой интеллигентности, старые, молодые, детские, женские, маленькие и толстые, с университетским дипломом или патентом на извоз. Множество крупных личностей в определенных отношениях друг с другом и с окружающей средой приводит к тому, что изображение воспринимается интенсивно, в ауре всех этих личностей, в целом как вещь и с моментальным пониманием вещи. Когда Вита целует Николая и потом говорит: "Женись на мне, ты же перспективный", – за словами стоит не корыстный расчет, а простота любви, включающая в себя просто прекрасный ракурс горящего окна, в котором момент с Андреем, Толстым и Шустрым для влюбленных – уже отработанное прошлое. Моментальное восприятие целого много значит. Чем тоньше отношения, чем выше не назывная, а личная культура, тем живее каждый миг. И смысл жизни как соответствия течению этих мигов, которые только искусство, кино в том числе, остановит в качестве "прекрасных" – вместе с дождем и светом, четырехмоторным аэропланом и коллекционным фонографом – во многом передан фильмом.
Тем не менее, чтобы время было прекрасно само по себе, чтобы оно становилось "куском жизни", конкурирующим с безыскусной реальностью зрительного зала, не торгуя "сюжетом" и "жанром", каждый кадр должен быть в первую очередь абсолютно органичен. Если уж ставишь перед собой столь высокие задачи, позаботься об их надлежащем исполнении. В этом плане, увы, нельзя не заметить, что, хотя "Гарпастум" копнул глубже, допустим, чем классические образцы того же подхода – "Жюль и Джим" /Jules et Jim/ (1962), "Две англичанки и Континент" /Deux anglaises et le continent, Les/ (1971), касавшиеся лишь частной человеческой жизни, не претендуя на слом представлений об истории Франции – выполнен он откровенно хуже. Безупречно не все. Безупречна пристрастно-мемуарная изобразительность в стиле Добужинского и местами Дейнеки и особенно физиогномика – чтобы сегодня найти столько соответственных, интеллигентных да еще красивых лиц, у нас надо было поистине прыгнуть выше головы. Но никакой полной органики в фильме не наблюдается, по течению времени он на грани фола неровный. И пусть лично Германа извиняют молодость и нестабильность родного кинопроизводства, а больше всего – реальная бескомпромиссность подхода (Жан-Пьеру Жене с классическим детективом "Долгой помолвки" /Un long dimanche de fiancailles/ (2004) было намного проще). Сам фильм это не извиняет.
Если "общий зачин" с Гаврилой Принципом годится по всему, то уже следующий кадр во многом не годится. Правильно, что от Андрея видна лишь медкнижка с пикантными иллюстрациями, а от Николая – нога с мячом. К сожалению, столь крупные аскетичные планы только подчеркивают фальшь и вымученность интонаций закадровой речи обоих молодых актеров (Евгений Пронин, Данила Козловский). И не спасает найденный Германом выход "говорения себе под нос": актеры пока не тянут. А уж когда оба поочередно без повода смотрят "в камеру", в зеркало, в глаза Германа, тем самым передающего им "эстафету повествования" – по монтажному акценту такое идейное насилие над временем становится очевидной режиссерской ошибкой. Вообще из всех актеров, появляющихся в фильме, полностью органичны лишь трое – первейшим Толстый (Александр Быковский), затем тетя (Ольга Самошина) и находка Вита (Иамзе Сухиташвили). Покойный Павел Романов (дядя) и Леонид Мозговой (аптекарь) хороши на привычном уровне, у Михаила Карпенко (Чюра) и у Арона Мельникова (дед Шустрого) есть по блестящей сцене, Дмитрий Владимиров (Шустрый) выправляется к концу. Но то, что точно так же, только "к концу" выправляются оба "альтер эго" режиссера, сказывается на всем фильме.
Красивая сцена на летном поле с девушками поначалу интригует, но когда уже и девушки фальшивят, а Дана Агишева (Нина) безобразно читает стихи, сцена кажется необязательной. Дальше "в гостях" стихи читаются замечательно (значит, можем же), и уровень органики этого "интерьера" соответствует первой "натуре" с Гаврилой Принципом (а также – в хорошем смысле – началу "Моего друга Ивана Лапшина" (1984) с итальянским летчиком в Абиссинии). Но затем, к сожалению, происходит самое страшное. Появляется Чулпан Хаматова. При малом знакомстве с творчеством этой актрисы, считающейся одним из лидеров поколения, от нее ожидалась работа по крайней мере не хуже, чем у партнера-дебютанта. Но пусть роль хозяйки литературного салона безусловно предполагает манерность и бурное сексуальное прошлое с вечным надрывом, женщину-карикатуру. Можно смертию смерть попрать, а вот фальшию фальшь – нельзя. До самого конца каждый вход в кадр Хаматовой будет разрушать кадр, разрушать все, что с таким трудом накапливает Герман. Причем ошибка в кастинге привела к уже по цепочке совершаемым ошибкам в режиссуре. Когда Андрей в трусах сидит у ванны, мало дикой и нестерпимой фальши реплик – эта несчастная Аница в конце концов вместо грубого секса еще лезет к нему целоваться. Но через пять минут надрывного знакомства она при любых обстоятельствах могла бы, убей бог, лишь поиметь его, и никаких поцелуев – их не может быть, потому что не может быть никогда, давно и отдельно про это снят другой фильм. А когда с абсолютно пустыми глазами Аница произносит: "Ну, почему я, взрослая, умная женщина должна вдруг вас полюбить?" – ответ о том, что "ты дура", напрашивается не в кадре, где звучит, а из зрительного зала – как и в тот момент, когда Андрей уходит в аптеку с Витой. Партнер-дебютант бросает не отсутствующую в природе Аницу, а артистку Чулпан Хаматову.
В череде таких "черных дыр", в полном отсутствии отношений между Аницей и Андреем мельчает общий смысл. Без смысла футболу не устоять перед мировой войной, а слишком фрагментарные прочие персонажи его на себе не вытянут. Покоем повеяло лишь, когда Хаматова навеки уезжает в жуткой шляпке с пером – опять же карикатурной не по роли, а на артистке. Хотя задним числом дискредитирован даже финальный брак Андрея с Ниной. Без предшествующих переживаний он становится не закономерным парафразом общей обреченности на поражение ("догадал же черт родиться в России с умом и талантом", "жена есть жена"), а просто лишает нас врожденной гениальности. Потому и существенный для фильма секс у стены не передает врожденную свободу гениальных людей. Эта сцена могла бы стать культовой, как секс на корточках в "Последнем танго в Париже", если бы ей не предшествовал секс у зеркала. Но у зеркала видно лишь режиссерскую задачу "неиспытанного оргазма", не исполненную на экране – все, что Аница говорит, она НЕ говорит. Значит, и у стены она НЕ испытывает оргазм, хотя здесь режиссером явно задано наоборот – испытать его наконец-то. Постепенно крепится подозрение, что Герман еще не умеет работать без поддержки неба, солнца, воды, даже когда интерьер стилизован до блеска. Но получается, что без натуры ему жизни не хватает.
Ведь все "черные дыры" небрежно переложены прекрасными сценами футбольных матчей (они почти все действительно прекрасны), в которых постепенно рождается доверие к Евгению Пронину и Даниле Козловскому – в первую очередь, потому что они это действительно умеют. Футбол (спорт как таковой по Лени Рифеншталь) для фильма – та же отрава, что съемки воды, огня, лошадей и взлетающих самолетов, на которые, как известно, смотреть можно бесконечно. Либо ты бегаешь, либо не бегаешь, ловишь или не ловишь мяч, делаешь финт или нет – и в тот момент, когда ко всему фильму наконец рождается доверие, киногения футбола у реки на закатном солнце достигает поставленной органической цели. Это время – навсегда. Но, пока доверие не достигнуто, весь первый час футбол тоже порой ни к чему. Смотреть отдельно можно, а ритм фильма в целом провален, поскольку неполная органика при полном отсутствии жанра весь первый час хронометража сводит к "картинкам из жизни". Когда "куска жизни" нет, хочется встать и уйти, не взирая на снова прекрасные сцены с попыткой самоубийства (Сергей Толстов) или первого хождения к татарам. Неловко тратить время на игру "по кочкам, по кочкам" – мы ж не дети.
Лишь к середине накапливается тот минимум органики, когда (у каждого в зале по-своему) происходит "Поворот Все Вдруг". Тут уже стала ясна изначальная историческая логика ("Можем же!" про англичан) с ее страшным отражением на людях (как Чюру забрили в армию) и неизбежностью их "личной" роли в фильме (чтобы разрушить ЭТОТ слой, достаточно одного случайного убийства). Роли уже продлены до сегодняшнего дня (прикиньте, кого расстреляют первым), и рассматривать можно все. Как прекрасно все сделано и снято, рассматривается так, что даже домой не хочется. Ритм соответствует лучшим образчикам киноискусства. Последняя сцена в татарской слободе тяготеет (притом что общий подход Германа – скорее, прогресс сокуровского) к известной сцене из Германа-старшего в "Моем друге Иване Лапшине" с убийством у барака. Но это "тяготение" – лишь в том смысле, что спустя четверть века после "Лапшина" "Гарпастум" объяснил истории кино, откуда взялся барак. И практически весь второй час все сцены самобытны и незабвенны. Даже зная, что в 1918-м "возвращение" явно лишнее, прощаешь его за блистательность тети-жены-ребенка (жена Нина всех переживет) и за последний кадр. За абсолютно несвойственный Герману-старшему, Сокурову и Муратовой, не говоря о Тарковском, однако отнюдь не наивный исторический оптимизм.
Да, стадион мы строили, строили, но так и не построим (в отличие от лучшего друга физкультурников). Да, полусгнивший амбар на пожухлой траве – уж не тайна русской души. Но так выпьем же за успех нашего безнадежного футбольного, волейбольного, баскетбольного, бадминтонного дела. Давайте же успокоимся, разойдемся по домам, сказав напоследок даже не читателю, а всего лишь режиссеру:
- когда у Муратовой непрофессиональные исполнители форсируют голос и суетятся лицом, это проходит, поскольку ее эстетика давно отказалась от органичности всего времени в пользу выразительности одного, отдельно взятого конечного момента,
- как бы ни был понятен ход с Блоком, которого "никто, в сущности, не знал", как бы Гоша Куценко ни вылез из собственной шкуры, чтобы это сыграть – и правильно сыграл (несмотря на придумку шуточек с Аницей) – такое навязывание своих художественно-бытовых представлений, да еще с выгодой для лично-культурного "альтер эго" в лице Андрея и Николая является диктатом режиссера, натяжкой и волюнтаризмом.
Блок написал "Кризис гуманизма" еще до начала фильма. Он умнее был, чем Николай и Андрей, вместе взятые.
Главное
 Зависнуть в зоне комфорта: рецензия на фильм «Заведи меня»
24 апреля / Текст: Оля Смолина
Зависнуть в зоне комфорта: рецензия на фильм «Заведи меня»
24 апреля / Текст: Оля Смолина
 Рейв в далёкой Галактике: обзор премьеры второго сезона сериала «Андор»
24 апреля / Текст: Егор Козкин
Рейв в далёкой Галактике: обзор премьеры второго сезона сериала «Андор»
24 апреля / Текст: Егор Козкин
 Кушала сестру, кушала. Рецензия на фильм «На этой земле» — монохромный игровой дебют Ренаты Джало
24 апреля / Текст: Яна Телова
Кушала сестру, кушала. Рецензия на фильм «На этой земле» — монохромный игровой дебют Ренаты Джало
24 апреля / Текст: Яна Телова
 Рецензия на фильм «Дело "Мальдорор"» — детектив, который больно смотреть
24 апреля / Текст: Настасья Горбачевская
Рецензия на фильм «Дело "Мальдорор"» — детектив, который больно смотреть
24 апреля / Текст: Настасья Горбачевская
 Что смотреть в кино на этой неделе: «Дело "Мальдорор"», «Джун и Джон» и «Почтарь»
23 апреля / Текст: Алихан Исрапилов
Что смотреть в кино на этой неделе: «Дело "Мальдорор"», «Джун и Джон» и «Почтарь»
23 апреля / Текст: Алихан Исрапилов
 Рыжая Иуда и другие неприятности: рецензия на четвёртый сезон «Хитростей»
23 апреля / Текст: Егор Козкин
Рыжая Иуда и другие неприятности: рецензия на четвёртый сезон «Хитростей»
23 апреля / Текст: Егор Козкин
 Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Film.ru зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).Свидетельство Эл № ФС77-82172 от 10.11.2021. © 2025 Film.ru — всё о кино, рецензии, обзоры, новости, премьеры фильмов





 Пожаловаться
Пожаловаться